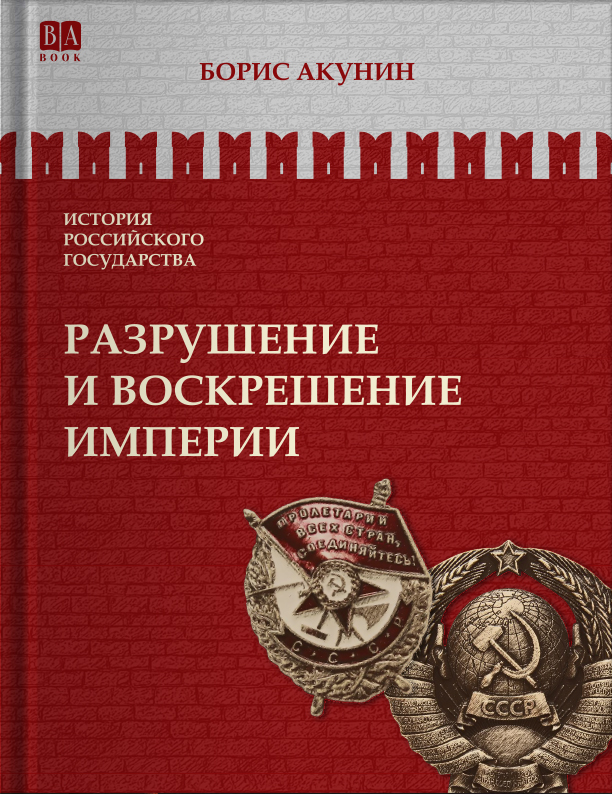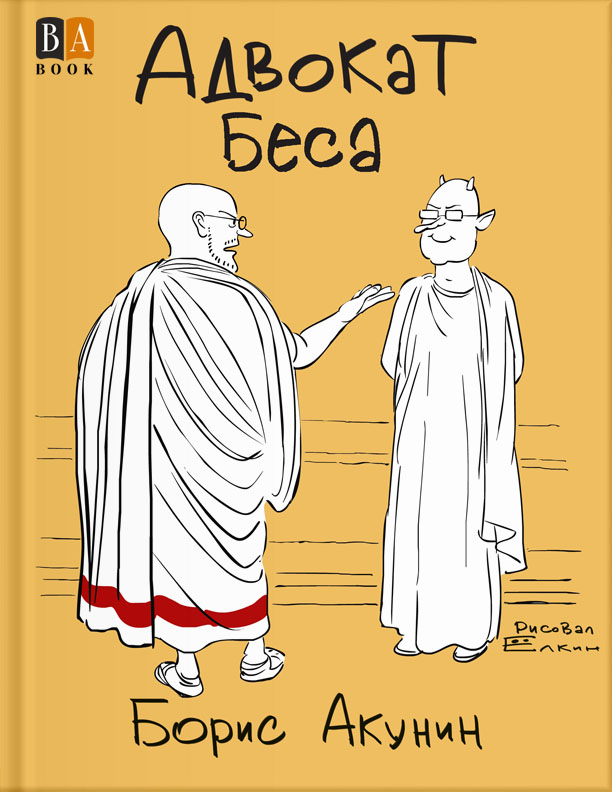Михаил Шишкин. «МОИ. Эссе о русской литературе»

ПРОДОЛЖЕНИЕ
После катастрофы с «Выбранными местами» писатель с трудом приходил в себя. Но оставить свой замысел он не мог. Настоящий писатель живет, пока он пишет. Гоголь жил и боялся умереть, не закончив тот труд, ради которого его послали на эту землю.
Гоголь снова возвращается к романной форме для главного дела своей жизни. Из письма Жуковскому: «В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни».
Но выставить жизнь лицом у него уже не получится.
Опять приступы веры в себя и в будущее своей книги чередуются у него с приступами безверия. В ноябре 1847 года Гоголь пишет своему другу: «Вы знаете, что я весь состою из будущего, в настоящем же есмь нуль».
Анненков, друг писателя, напишет в воспоминаниях: «"Мертвые души" были подвижническая келья, в которой Гоголь болел и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее».
Гоголь всегда был окружен людьми, но его обнимала пустота. Это было одиночество в борьбе со словом. Этой мукой он ни с кем не мог поделиться. Писатель жил подвижником, монахом в миру, не имея ни имущества, ни дома, ни семьи, одержимый своим призванием
и крестом – книгой.
«Я бездомный, меня бьют и качают волны», – говорит о себе Гоголь в одном письме. «Я нищий и не стыжусь своего звания», – пишет он в другом.
* * *
Гоголь годами всем говорил, что вот-вот отправится в Иерусалим к гробу Господню. Он хотел просить благословения на великий труд, возложенный на него. Он хотел получить знак, что он действительно избранный. Он готовился к поездке в Иерусалим годы, а вернее сказать, оттягивал ее, как мог. Он боялся, что знака может не быть.
Наконец, в 1847 году он отправился в Иерусалим через Неаполь, но застрял там на полгода. Предлогом послужил выход в России «Переписки», а потом Гоголь и вовсе отправился не на юг, а на север, в Париж. В следующем году он делает вторую попытку.
«Я теперь в Неаполе: приехал сюда затем, чтобы быть отсюда ближе к отъезду в Иерусалим. Определил даже себе отъезд в феврале, и при всем том нахожусь в странном состоянии, как бы не знаю сам: еду я или нет. Я думал, что желанье мое ехать будет сильней и сильней с каждым днем, и я буду так полон этой мыслью, что не погляжу ни на какие трудности в пути. Вышло не так. Я малодушнее, чем я думал; меня все страшит. Может быть, это происходит просто от нерв. Отправляться мне приходится совершенно одному; товарища и человека, который бы поддержал меня в минуты скорби, со мною нет, и те, которые было располагали в этом году ехать, замолкли. Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды; а я бываю сильно болен морскою болезнью и даже во время малейшего колебания. Все это часто смущает бедный дух мой и смущает, разумеется, оттого что бессильно мое рвенье и слаба моя вера…» (Гоголь – Н.Н. Шереметевой, из Неаполя).
На Святой земле он никак не мог сосредоточиться на главном. «Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю. <…> Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции», – написал он Жуковскому.
У гроба Господня его неприятно поразила суета: «Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщения меня, недостойного».
Поездка в Палестину не помогла. Его разочаровало не столько отсутствие веры в себе к Богу, сколько отсутствие веры в то, что он – избран, чтобы закончить свой великий труд.
* * *
Из Иерусалима Гоголь вернулся в Россию. Второй том был в целом написан, но писатель не отдавал его в публикацию. В нем не было уверенности, что он написал то, что должен.
Гоголь читал главы друзьям. Прочитанным восхищались. После одного такого чтения Самарин написал Гоголю о своем впечатлении: «Если бы я собрался слушать вас с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется, и тогда после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был так вполне увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержалась бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее. Мне остается только пожелать от всей души, чтобы вы благополучно совершили дело, важность которого для нас всех более и более обнаруживается».
А вот отрывок из письма Самарина Смирновой о том же чтении: «Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое Гоголь произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: "Скажите по совести только одно, – не хуже первой части?" Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня недостало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали».
Ему лгали в глаза. Он верил восхищенным отзывам? Или не верил?
Правду ему сказал только его духовник священник отец Матвей. Он вспоминал: «Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей, <…> просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочел. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены были такие черты, которых… во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски… только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за "Переписку с друзьями"…»
Шел последний год его жизни. Гоголь то принимался переписывать в который раз уже законченные главы, то приходил в отчаяние: это была не та книга.
Осенью 1852 года он поехал на родину на свадьбу к сестре. Но с полпути вернулся в Москву. Его знакомый Бодянский, к которому пришел тогда Гоголь, вспоминает, как «на вопрос его: "Зачем он воротился? " Гоголь отвечал: "Так: мне сделалось как-то грустно", и больше ни слова».
Гоголя раздавило осознание того, что он не смог исполнить возложенную на него миссию. Смирнова вспоминала его слова: «Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет».
Слова победили писателя. Это было поражение всей жизни. Признание невозможности написать «Живые души», исполнить свое Божье предназначение – было признанием его небытия. Сожжение рукописи уже было делом второстепенным.
«Ночью на вторник (на 12-е февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. "Свежо", – ответил тот. – "Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться". И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, чрез которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: "Барин! что это вы? Перестаньте!" – "Не твое дело, – ответил он. – Молись!" Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал» (из воспоминаний М.П. Погодина).
* * *
Этой книгой он хотел оправдаться на Страшном Суде.
Ни жить, ни писать больше не имело никакого смысла. Оставалось только умереть с достоинством. Именно этого ему не дали сделать. Гоголю хотелось встретить самый главный миг человеческой жизни в посте и молитве. В ночь на 21 февраля 1852 года доктора пускали ему кровь, сажали измученное тело в горячую ванну, поливали голову холодной водой. Гоголь плакал, просил отпустить его – ему заламывали руки.
В «Шинели» Акакий Акакиевич просит своих мучителей: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»
Умирающий Гоголь умолял: «Оставьте меня, не мучьте меня!»
Даже знаменитый гоголевский нос не оставили в покое: к ноздрям приставили восемь пиявок.
Нос Гоголя хотел покоя и совершил побег в ту же ночь, туда, где его никто больше не мог мучить – из московской зимы он шагнул в 86 мартобря.