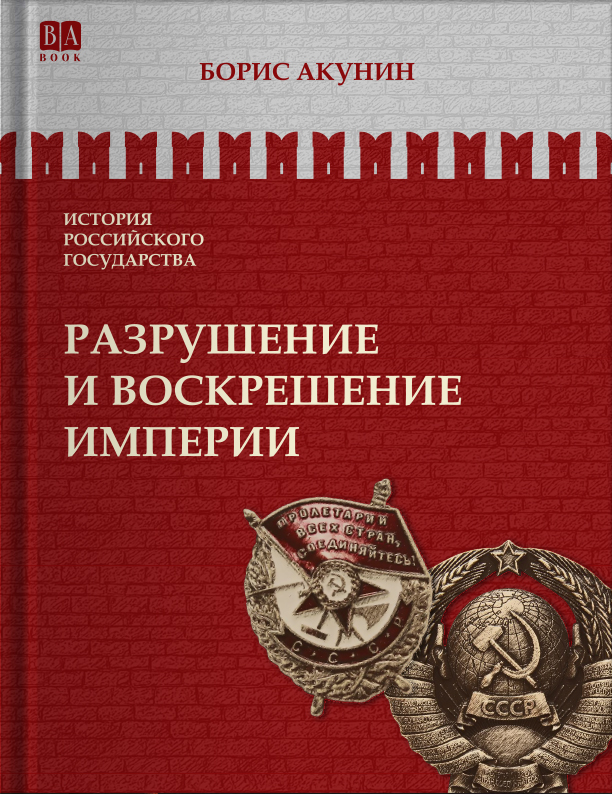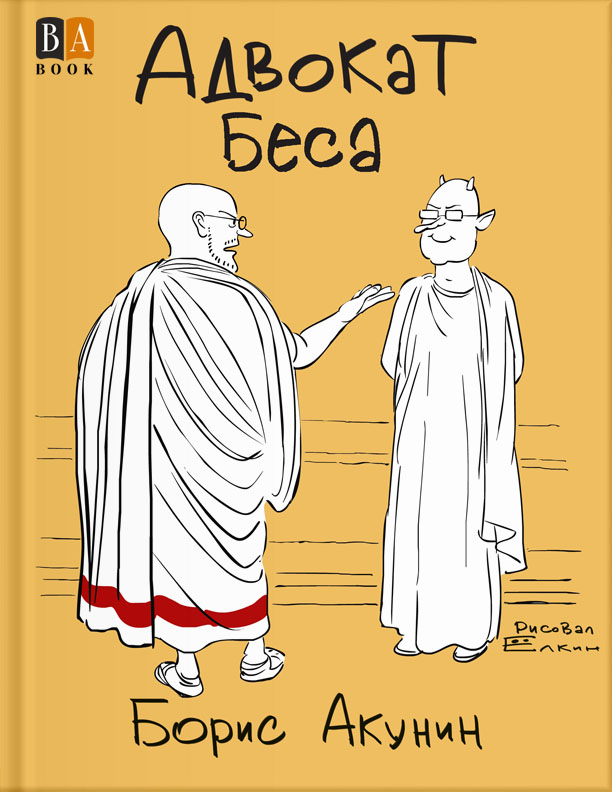Михаил Шишкин. «МОИ. Эссе о русской литературе»

Мой Достоевский
Продолжение
У «русской идеи» были еще враги, гораздо более коварные и опасные, чем Османская империя и западные державы: революционеры.
Для Достоевского высший дар Божий человеку – это свобода, свобода прийти ко Христу. Человек свободен выбирать между злом и добром. Учение Достоевского о свободе выбора делает понятным, почему он с такой энергией боролся против революционных идей: русская молодежь выбирала революцию, а не церковь.
С эпохальным освобождением крепостных в 1861 году Россия вступила на путь, по которому пошли в своем социальном развитии западные страны. Реформы Александра II и сейчас, через полтора столетия, звучат так, будто они взяты из недосягаемого русского будущего: равенство всех перед законом, разделение судов и администрации, независимость и несменяемость судей, формирование суда присяжных и публичные слушания, земство, самоуправление городов, автономия университетов. Страна двигалась к конституции семимильными шагами.
Преградой на этом пути реформ оказалась «прогрессивная» интеллигенция, которая объявила войну правительству и начала охоту за царем-освободителем. «Свержение самодержавия» и «революция» стали магическими словами, наполнившими души и сердца начитанных юношей и девушек, решивших посвятить свою жизнь освобождению непросвещенного народа. Русская душа, жаждущая идеалов, вновь обрела цель, столь важную, что ради нее можно было пожертвовать жизнью.
«Образованное общество» полностью было на стороне террористов и всеми силами поддерживало их в войне против царского режима. Показательным в этом отношении стал знаменитый суд над Верой Засулич, на котором присутствовал Достоевский. Террористка была оправдана под овации восторженной публики. Публичное осуждение Достоевским этого оправдания стало отчаянным гласом вопиющего в пустыне.
В конце романа «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову снится чума, которая опустошит мир: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. <…> Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. <…> Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше».
Достоевский – не Нострадамус, чтобы с точностью до года предсказывать все чумы, поражающие человечество. Конечно, писатель имел в виду не «ковид-19», а вирус идеологической нетерпимости, уже заразивший в то время весь мир и особенно Россию. Вирус, который стал причиной революций и войн кровавого XX века с беспрецедентными жертвами. В этой готовности разрушать, уничтожать и убивать во имя высших идеалов он видел семена неизбежно надвигающейся
катастрофы.
Ему ясно виделась причина – растущее отчуждение российской интеллигенции от «почвы», от крестьянства, от религии, от Христа.
«Образованное общество» требовало просвещения неграмотного населения, новых школ и больниц. Достоевский считал просвещение по западному образцу шагом в неверном направлении. Под народным просвещением он понимал что-то совсем другое: «Под просвещением я разумею (думаю, что и никто не может разуметь иначе) – то, что буквально уже выражается в самом слове «просвещение», то есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни» («Дневник писателя», 1880).
Его критиковали за консервативные взгляды, но Достоевский смотрел не назад, а вперед. Он видел Россию над бездной, предчувствовал катастрофу. Он хотел сохранить для своих соотечественников будущее.
Случай в революционном кружке в Москве (студент был убит своими соратниками) подтолкнул его к написанию «Бесов». Название отсылает к изгнанию Христом бесов, которых он превратил из одержимых ими людей в свиней. Смысл очевиден: Достоевский сравнивает русских революционеров со злыми духами, которые гонятстадо свиней в пропасть. Тотальная одержимость пусть и самой прекрасной идеей довела их до насилия. В своей идеологической слепоте они не видели и не жалели жизни ни себя, ни других. (Заметим в скобках, что свиньи, одержимые злыми демонами, очевидно, не утонули в озере, а отправились прямиком в «Скотный двор» Джорджа Оруэлла).
Ирония русской трагедии: в действительности «одержимые злыми духами» часто оказывались лучшими дочерями и сыновьями народа, готовыми во имя своих идеалов пойти на каторгу и смертную казнь. Они массово отправлялись на каторгу в Сибирь, но не для того, чтобы искупить страданиями вину и возродиться во Христе. В своей готовности к страданиям молодые революционеры были прямыми последователями Аввакума. Их пытали и мучили, но страдания не привели их к благодати через покаяние перед Богом. Перед казнью они отказались исповедоваться. Их мужество могло вызвать только уважение и восхищение; революционеры были мучениками, но не мучениками Христа, а мучениками – для Достоевского – пустоты. Они искали истинную веру, но нашли не ту. Они были хорошими людьми, но умножали зло на земле. Все его произведения – предупреждения об опасной болезни, поразившей страну, сигналы тревоги: падение в кровавое варварство возможно в любой момент.
В одной из статей 1873 года Достоевский заметил, что террористы отнюдь не монстры: «В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!»
Беседа вернувшегося Христа с Великим Инквизитором, знаменитая легенда, рассказанная Иваном Карамазовым в «Братьях Карамазовых», – это не только памфлет против ненавистной католической церкви, но и притча о будущем: все идеологии, обещающие свободу, братство, равенство и любовь, в безбожном мире заканчиваются одинаково. В ХХ веке человечество переживет трагическое воплощение лучших социальных утопий.
Своим Раскольниковым, своими «Бесами» Достоевский хотел дать понять, что те люди, которые одержимы идеологией и хотят улучшить мир, несравненно страшнее банальных преступников. Самая лучшая идея становится преступной мерзостью, если она дает право совершать преступления во имя добра.
Наверно, самые известные слова Достоевского: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
Достоевский остался со своим Христом, Россия последовала за другой правдой, правдой «бесов».
* * *
На страницах своих романов Достоевский борется со всеми идеями, религиями, нациями, которых он считает опасными и вредными для его «русской идеи»: католиками, нигилистами, поляками, евреями, турками, немцами. Современный читатель не раз вздрогнет от «политической некорректности», прочитав про «жидов» или «грязных полячишек». Объяснения, что в те времена эти слова не были столь оскорбительны, как сегодня, не спасают писателя: они были достаточно оскорбительны и тогда. И это был его сознательный жест. Это была его борьба, его битва, его «священная война». Он защищал то, что было ему дороже всего, от своих врагов доступными ему средствами – словами.
Ненависть Достоевского к революционерам почти фанатична. Страстная вера русской молодежи в революцию возвышала ее до своего рода монотеистической религии, а это исключало христианство в виде православной «русской идеи», то есть другой монотеистической религии. Бог один. Или – или.
То же самое относилось и к мессианской религии избранного народа – иудаизму. Антисемитизм Достоевского носил не бытовой, а идеологический характер. В своем знаменитом монологе о спасении мира Шатов в «Бесах» говорит из самого сердца автора: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою».
Достоевский повторяет эти слова дословно в своем дневнике. Писатель остро чувствовал в еврейском мессианизме угрозу для своей «русской идеи». Как могут сосуществовать два народа, избранные Богом? Избранный народ может быть только один.
Достоевский встает перед неразрешимой проблемой и срывается в судорожное осуждение евреев при каждом удобном случае. Из письма писателя жене из Бад-Эмса 9 августа 1879 года: «Вещи здесь страшно дороги, ничего нельзя купить, всё жиды. Купил бумаги (писчей) и перьев гадчайших, заплатил чертову кучу, точно мы где-нибудь на необитаемом острове. Здесь всё жиды! Даже в наехавшей публике чуть не одна треть разбогатевших жидов со всех концов мира».
В письме к журналисту Аркадию Ковнеру Достоевский оправдывается в обвинениях в антисемитизме, но сразу же объясняет причины своей ненависти: «Я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже 40-вековое, как Вы говорите, их существование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей истории, не формулироваться в разные status in statu».
Его яростные выпады против иудаизма неизбежно порождают подозрение, что Достоевский испытывал к евреям нечто вроде скрытой зависти. Должно быть, сама мысль была для него невыносима: если евреи уже 40 веков – избранный народ, то кто же мы, русские, «самозванцы»?
Достоевский питает неприязнь ко всем другим национальностям, кроме «богобоязненного русского народа».
После раздела Польши большая часть католической страны вошла в границы России. Для Достоевского Польша была восточным форпостом враждебной западной цивилизации. Тот факт, что католическая церковь сыграла ведущую роль в польском вооруженном восстании 1863 года, подлил масла в огонь его ненависти.
Восстание поляков против царского гнета «за вашу и нашу свободу» Достоевский понял со своей точки зрения: на его геополитической карте Польша находилась на границе славянского и европейского миров; для него это был конфликт не наций, а идей. В записной книжке за 1863 год он пишет: «Польская война есть война двух христианств – это начало будущей войны православия с католичеством, другими словами – славянского гения с европейской цивилизацией».
Польский католицизм был особенно отвратителен Достоевскому, так как он видел в поляках братьев-предателей в славянской семье. Для него польское восстание было предательством общего дела, в котором Россия стремилась объединить славян.
В каждом романе Достоевский не устает мстить «предателям». Среди самых отвратительных персонажей с отрывом лидируют поляки: «жалкие полячишки», всегда неряшливо одетые, позеры, мошенники, наглые обманщики, самозванцы, лжешляхтичи и лжестрадальцы.
Великорусский патриотизм ослепил и многих критиков царизма того времени. Только Александр Герцен из лондонской эмиграции поддерживал борьбу поляков против русской армии. Это стоило ему потери огромной популярности среди русской «прогрессивной» общественности.
Доставалось от Достоевского всем национальностям. Например, татарам. В 1876 году впервые обсуждался вопрос о том, следует ли переселить татар из Крыма. Возможности депортации горячо дебатировались в газетах. В «Дневнике писателя» (июль – август 1876) Достоевский комментирует это так: «"Московские ведомости" проводят дерзкую мысль, что и нечего жалеть о татарах – пусть выселяются, а на их место лучше бы колонизировать русских. <…> согласятся ли у нас все с этим мнением "Московских ведомостей", с которым я от всей души соглашаюсь, потому что сам давно точно так же думал об этом "крымском вопросе". Мнение решительно рискованное, и неизвестно еще, примкнет ли к нему либеральное, всё решающее мнение. <…> Вообще если б переселение русских в Крым (постепенное, разумеется) потребовало бы и чрезвычайных каких-нибудь затрат от государства, то на такие затраты, кажется, очень можно и чрезвычайно было бы выгодно решиться. Во всяком ведь случае, если не займут места русские, то на Крым непременно набросятся жиды и умертвят почву края…»
Не остались обделенными и швейцарцы. В Женеве Достоевский пережил трудные времена, унижение от финансовых трудностей после катастрофических проигрышей в рулетку, трагедию смерти: его первенец Соня умерла в возрасте трех месяцев. В этой смерти Достоевский винил Швейцарию в одном из писем – если бы они были в России, Соня бы осталась жить.
Но главное, он не может простить Швейцарии так называемые «женевские идеи». Для Достоевского Швейцария – страна Руссо, место, где зародился западноевропейский интеллектуальный мир без Бога. «Женевские идеи» осуждаются в романе «Подросток», и автор полностью поддерживает в этом своих героев. Именно в этом, по мнению Достоевского, заключалось главное заблуждение западной цивилизации: добродетель возможна без Христа. Величайшая и трагическая ошибка человечества – это идея, что Бог и религия не нужны для достижения счастья. Человек рождается счастливым, свободным и добрым, утверждал Руссо. Достоевский возражал: «Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье и всегда страданием» (из записей к «Преступлению и наказанию»).
В качестве благодарности за годы, проведенные писателем в Швейцарии, жители альпийской республики получили следующие строки: «О, если б Вы понятие имели об гадости жить за границей на месте, если б Вы понятие имели о бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев. Конечно, немцы хуже, но и эти стоят чего-нибудь! На иностранцев смотрят здесь как на доходную статью; все их помышления о том, как бы обманывать и ограбить. Но пуще всего их нечистоплотность! Киргиз в своей юрте живет чистоплотнее… Я ужасаюсь; я бы захохотал в глаза если б мне сказали это прежде про европейцев. Но чорт с ними! Я ненавижу их дальше последнего предела!» (из письма Майкову от 4 июля 1868 года из Веве).
Николай Страхов, друг и биограф Достоевского, вспоминал в письме к Льву Толстому: «В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: "Я ведь тоже человек". Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека».
* * *
Знаменитая Пушкинская речь стала последней попыткой донести «русскую идею» до широкой публики. 8 июня 1880 года в Москве был открыт памятник Пушкину. Слова Достоевского были не просто торжественной речью, они стали его завещанием – он и не подозревал, что это будет его последнее публичное выступление. Ему оставалось жить всего несколько месяцев.
В этой речи Достоевский повторил основные принципы своей «русской идеи»: «Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»
Достоевский воспользовался поводом и сделал Пушкина олицетворением «русской идеи», миссионерским символом православного народа-богоносца, воплощением особых русских способностей, необходимых для выполнения христианской миссии спасения: «всечеловечности» и «всемирной отзывчивости». Гений Пушкина должен был послужить важным доказательством избранности России для братского спасения других народов.
Своей речью Достоевский хотел положить конец вечному спору между славянофилами и западниками, примирить их, обязав обе стороны выполнять общую русскую миссию по спасению человечества.
Речь вызвала восторг публики, но эйфория длилась недолго. Тургенев, который даже обнял Достоевского со слезами на глазах после выступления, совсем иначе высказался о пушкинской речи, вернувшись в Париж: «Это очень умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия» (из письма М. Стасюлевичу 13 (25) июня 1880).
Пресса атаковала Достоевского слева и справа, и ему пришлось снова защищать свою Idée fixe в «Дневнике писателя».
«Русская идея» в России упала в пустоту. Для революционной интеллигенции это были проповеди ретрограда. Для широкого образованного общества проект братского спасения мира в объятиях православной монархии оставался лишь реакционной утопией, а неграмотный «народ-богоносец» Достоевского не читал и ничего о его «русской идее» так не узнал.
* * *
История звала Россию сделать шаг в бездну. И страна сделала этот шаг.
Идеальный герой Достоевского, которому должно принадлежать будущее России, – молодой Алеша Карамазов, монастырский послушник. Образом «прекрасной России будущего» у Достоевского, видимо, был огромный, бесконечный монастырь. Будущее приближалось, и оно выглядело как огромный, бесконечный ГУЛАГ.
Своими пророческими призывами остановиться перед пропастью Достоевский хотел спасти самых дорогих ему людей, свою семью, жену, детей от грядущей катастрофы. Ему это не удалось.
Вдова Достоевского Анна Григорьевна, посвятившая всю свою жизнь наследию писателя, после Февральской революции 1917 года, спасаясь от беспорядков, поехала из Петрограда на юг, на свою дачу под Адлером на Черном море. Садовник объяснил ей, что все имение теперь принадлежит ему, «пролетарию», и прогнал 70-летнюю Анну Григорьевну. Она поехала в Ялту, где у семьи был дом. Незадолго до ее приезда дом был ограблен, а две проживавшие в нем женщины были зверски убиты топором. На мраморном бюсте писателя в прихожей остались брызги крови. Анна Григорьевна была настолько потрясена этим событием, что вскоре скончалась в больнице.
Сын Достоевского Федор занимался любимым коневодством в Крыму. Дело всей его жизни было разрушено. Ему не удалось покинуть страну с остатками Белой армии, он остался, был арестован чекистами и приговорен к расстрелу. Случайность спасла ему жизнь, но его преследовали болезни и лишения – в 1922 году он умер от голода.
Племянник Достоевского, сын его младшего брата Андрея, был арестован в возрасте 66 лет и отправлен в ГУЛАГ.
Вскоре после захвата власти большевики разработали план монументальной пропаганды. В 1918 году в Москве был открыт памятник Достоевскому. На следующий день на памятнике появилась надпись мелом: «Достоевскому – от благодарных бесов».
* * *
В отрезвляющие годы после революции 1905 года Вячеслав Иванов писал: «Наше освободительное движение, как бы внезапно прервавшееся по завершении одного начального цикла, было настолько преувеличено в нашем первом представлении о его задачах, что казалось концом и разрешением всех прежде столь жгучих противоречий нашей общественной совести; и, когда случился перерыв, мы были изумлены, увидев прежние соотношения не изменившимися
и прежних сфинксов на их старых местах, как будто ил наводнения, когда сбыло половодье, едва только покрыл их незыблемые основания» («О русской идее»).
И в сегодняшней России древние сфинксы стоят непоколебимо.
Не русский «народ-богоносец» принес Западу всечеловечность, а русские писатели.
Грандиозные цели, поставленные Достоевским, были грандиозными утопиями. Как и Гоголь, он потерпел неудачу – из-за России и из-за себя самого: он не был «гражданином высокого небесного гражданства». Но даже его поражение стало победой для мировой литературы.
17-летний Федор Достоевский писал брату Михаилу: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».