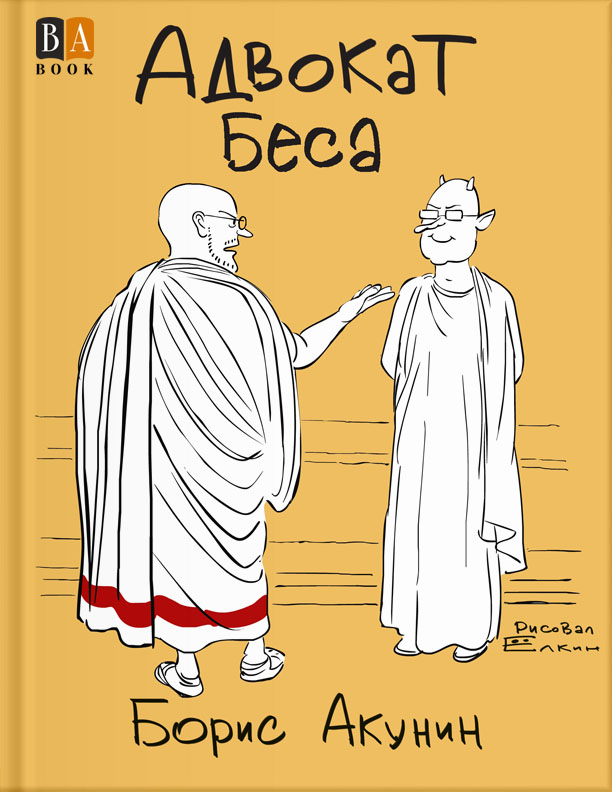МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ДАНИЭЛЬ КЕЛЬМАН
МЕХАНИЗМ КОМПРОМИССА
Выход в 2025 году в немецком издательстве Fresh Verlag нового романа Даниэля Кельмана «Светотень» в переводе с немецкого Александры Берлиной - знаковое событие в русскоязычном книгоиздании за пределами России. Когда книга Кельмана Lichtspiel в 2023 году вышла в издательстве Rowohlt Verlag, она стала одним из самых заметных явлений современной немецкой литературы, и невозможность ее прочитать, неизбежная из-за войны и разрыва автором всех связей с Россией, где его книги пользовались успехом, была бы большой потерей для русскоязычных читателей. И вдруг - выход, найденный руководительницей Fresh Verlag Лив Мачиной: она получила права на перевод и издала эту книгу на русском языке вне России. Такая вот первая ласточка, которую встречаешь с радостью.
В послесловии к «Светотени» Лив Мачина написала и о дополнительном бонусе издания: «Выход этой книги — романа-бестселлера, созданного одним из самых ярких и талантливых писателей современности, настоящим Мастером, — в нашем недавно созданном издательстве, это, конечно, большая радость и честь для нас. Поэтому мы во Fresh Verlag задались целью сделать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно, и представить любознательному читателю не только блестящий перевод Александры Берлиной, но и примечания к тексту — в качестве небольшого путеводителя по упомянутым в романе «Светотень» культурным кодам, ассоциациям, историческим реалиям и персонажам».
Издательские комментарии усиливают то, что составляет содержание и суть этого романа: понимание природы и механизма компромисса, который человек искусства заключает со злом. Даниэль Кельман и препарирует этот компромисс, и делает сам процесс препарирования художественным явлением.
Главный герой романа «Светотень», немецкий кинорежиссер Георг Пабст - фигура не просто реальная. Это художник, приобретший славу еще до прихода Гитлера к власти. Конечно, он не собирался мириться с фашизмом и уехал из Германии, благо получил приглашение в Голливуд. И, приступив там к съемкам, обнаружил то, что обнаруживало большинство европейских режиссеров: что в Америке его никто не знает, что в Голливуде хотя и знают, но не собираются предоставлять ему особые возможности в связи с его европейской славой, что работой его будет руководить продюсер, причем делать это он будет с такой бесцеремонностью, словно перед ним не крупный режиссер, а новичок, что у Пабста не будет права ни написать, ни даже выбрать сценарий и актеров, а когда в результате всего этого фильм получится слабым и провалится в прокате, это окончательно поставит крест на возможности его голливудской карьеры.
И не то чтобы у него не было финансовой подушки, и не то чтобы в Америке ему угрожала участь бездомного… Но какой удар по самолюбию - в преклонные годы идти в ассистенты режиссера! А именно такое будущее ему, скорее всего, предстоит… Нет-нет, Пабст вовсе не собирается возвращаться в гитлеровский рейх. Он отправляется во Францию - там его знают, там ему обещают фильм. А что приходится съездить с женой и сыном-подростком в Австрию, где у него замок, так это ненадолго - только для устройства в пансионат престарелой матери, у которой начинается деменция. А уже в замке Пабст понимает, что им может помыкать его же хаусмайстер Йержабек, омерзительный тип, ставший мелким местным нацистским гауляйтером. А тут появляется некто Кремер, первый разговор с которым у Пабста состоялся еще в Голливуде:
«— Не оставайтесь здесь! — сказал Кремер. — Вы же видите, как здесь все устроено. Чего вы можете добиться в Голливуде?
Пабст засмеялся. «А вы что предлагаете? Вернуться в рейх?»
— Вас бы приняли с распростертыми объятиями. Вы могли бы снимать, что захотите. Любое кино.
— Покуда оно пропагандирует нацизм.
— Да нет же! Это совершенно ложное представление.
— Господи, какая наивность. Вы вообще представляете себе, что происходит в Германии?
— Представляю. И повторю вам: с распростертыми объятиями.
— Я не могу вернуться. Не мог бы, даже если бы хотел.
— Вы нужны Германии. Наше правительство прагматичнее, чем люди склонны полагать. Вы великий художник. Вы не еврей. И вы уже имеете опыт… Вы простите, маэстро, но я напрямую скажу. Вы имеете опыт некоторых компромиссов.
— Что-что?
— «Скандал вокруг Евы». «Владычица Атлантиды». Разве эти фильмы вас достойны? Если вы вернетесь, вам на такие компромиссы больше идти не придется.
Пабст помолчал, потом спросил: «Это ваше личное мнение?»
— Это не только мое личное мнение».
Так начинает работать механизм компромисса - впрочем, заряженный еще до этого начала.
Пабст приезжает в Берлин - ну просто чтобы посмотреть, как там обстоят дела с кинематографом, действительно ли студия UFA работает так прекрасно, как об этом все говорят.
«Повсюду свастики. Они горели алым цветом на фасадах, раздувались на ветру, свисали с крыш, топорщились черными зубцами на каждом заборе. За полчаса мимо прошли три колонны в коричневых униформах, под барабаны, точно в ногу. Прохожие останавливались, вздымали правую руку, и Пабст, чтобы не выделяться, делал то же самое — лишь на секунду, плечо дергалось, он чувствовал себя оскверненным до глубины души».
Но ничего - коллеги подробно объясняют, что в реальности все не так страшно, как кажется с первого взгляда:
«Тяжко, тихо сказал Койтнер, когда они уселись у него в гостиной, а с другой стороны, не так уж и тяжко. UFA осталась на удивление аполитична; никому не мешают делать свою работу, даже запрещенные сценаристы продолжают писать, под псевдонимами. Конечно, надо следить за каждым словом, особенно с тех пор, как началась война. Но когда к этому привыкнешь, когда знаешь правила, чувствуешь себя почти свободным. Актер Хайнц Рюманн прямо из Бабельсберга, из киностудии, Либенайнер снимает «Соломенную шляпку» по пьесе Лабиша, блестящий фильм, веселый и умный, один из лучших, в которых Рюманн в жизни снимался. Он хлопнул в ладоши и принялся цитировать диалоги, а потом изображать, как Либенайнер щелкает пальцами, когда ему в голову приходит идея, а бывает это часто, он так и искрится идеями, прекрасный режиссер! И ни одного нациста на съемочной площадке. Как будто в другой стране находишься! Такие анекдоты загибают, о жирном Геринге, о чопорном Риббентропе, сплошное веселье, полная свобода! «Вот увидишь, мы им нужнее, чем они нам!». Германия ведь больше не импортирует фильмы, сказал Рюманн. А кинозалы как-то заполнять нужно, одной пропагандой не обойдешься, так что те немногие, что умеют снимать, просто необходимы. Кое-кто смог попасть в Голливуд, сказал Койтнер, вот Циннеман, например, и Фриц Ланг, конечно! Ну а если не настолько повезло, то, значит, надо по мере возможности работать здесь. Стараться не запятнаться, как можно реже идти на компромиссы. Делать свою работу, вот и все. Совсем без компромиссов, конечно, никак, сказал Рюманн. Ему вот пришлось развестись с Марией, иначе работать бы не дали. Да, работать вполне можно, повторил в конце концов Рюманн. С тех пор, как UFA стала де факто государственной компанией, денег на съемки больше, чем когда-либо, и невзирая на войну, организовано все прекрасно, бюрократические пути невероятно сократились. Министр — это, в сущности, просто продюсер, сказал Рюманн. Хоть и исключительно влиятельный, сказал Койтнер. Представить себе только: Вилли Форст, например, обязательно хотел снимать в своем новом фильме Тео Лингена. Но Лингену не понравился сценарий, а может быть, он Форста не любит, во всяком случае, отказался. Сослался на иные обязательства. Тогда Форст пошел к министру, а тот говорит: дорогой Форст, я вам гарантирую, что никаких иных обязательств у Лингена нет, а если и были, то больше не будет. Ну что тут Лингену оставалось делать!».
И вот уже Пабст сам беседует с министром пропаганды Геббельсом о новом фильме, который ему предлагается снимать в идеальных условиях. Разговор чудовищно унизительный, зато фильм будет великий.
«— Вы вернулись в рейх. Вы хотите снимать. Не политические фильмы, а художественные. Возвышенные. Чистое искусство. Фильмы, трогающие добрых, глубоких, метафизически чувствующих зрителей за их немецкую душу. Глубокомысленные фильмы для глубокомысленных людей, вот что нам нужно. Мы ответим громким «нет!» на американский ширпотреб, на их пошлый коммерческий мусор. Вот наш ответ. — Он стукнул кулаком по стопке бумаги. — Вот он! — Помолчал, снова стукнул кулаком. — Фильм о Каролине Нойбер, Пабст! Об основательнице немецкого театра, Пабст! О покровительнице Лессинга, Пабст! Сценаристы раньше оба писали для этого гнусного листка «Вельтбюнэ», левое отребье вроде вас — вообще-то место им в концлагере, но они осознали истину. Узрели свет. Совершенно аполитичный сценарий, Пабст. И фильм будет аполитичный. Идеалистический. Метафизический. Возвышенный.
Министр выжидающе смотрел ему в лицо.
— Хайль Гитлер, — сказал Пабст.
— Сценарий ваш не забудьте. И помните: здесь вас ценят. Здесь вам дадут возможность заниматься любимой работой.
Пабст пробормотал что-то, несколько похожее на слова благодарности, взял сценарий и повернулся.
— Мы не обращаемся с великими художниками как с лакеями, — сказал министр. — Мы знаем, с кем имеем дело. Мы этого не забываем».
И вот уже Пабст снимает свой великий аполитичный фильм. А потом немного помогает великой режиссерше Лени Рифеншталь. (Спросите о ней сейчас российских кинематографистов - услышите, что надо отделять великое искусство от личности автора. Так что изменения в этой среде если и произошли со времен гитлеровского рейха, то минимальные). Правда, эта дама разве что туфли ей не заставляет Пабста вылизывать, напоминая, что если услышит от него хоть одно возражение по поводу ведения съемок, то он отправится в концлагерь. Но разве у него есть варианты? Он режиссер, он хочет снимать великое кино, и, в отличие от того, что было в Голливуде, он его снимает, ради этого стоит потерпеть. И что статистов для этого кино привозят под конвоем из концлагеря, - на это можно не обращать внимания. И что любимый сын воспитывается в общежитии гитлерюгенда и не слишком медленно, но слишком верно мимикрирует под среду, - с этим тоже ничего не поделаешь. И что жена, которую Йержабек превратил в прислугу, потихоньку спивается от отчаяния, - изменить не в его власти. Он снимает великое кино.
Жена, кстати, и формулирует то, что должен был бы вообще-то сформулировать сам Пабст. После премьеры она разговаривает с английским журналистом-военнопленным, которого заставили изображать на этой премьере мировую общественность.
«— Как вам фильм? — спросила она.
— Вам, возможно, известно, если вам вообще известно что-либо обо мне, что я порою склонен бросаться словами на ветер чистого красноречия ради, так что прежде чем ответить, я должен вас заверить, что говорю всерьез: это шедевр.
— Да, — сказала она. — Очередной шедевр. Какая радость.
Я изумленно воззрился на нее. В ее тоне звучала не ирония — ледяной сарказм.
— Вы не согласны? — осторожно спросил я.
— Почему же. — Она поднесла сигарету к дрожащему огоньку, который я защищал ладонью. — Просто мне надоели шедевры. Будь на свете одним меньше, меня бы это совершенно устроило».
Между тем механизм компромисса работает на полную катушку.
Любимый сын Якоб уже призван в вермахт.
«Этой ночью страх за Якоба не давал Пабсту уснуть. Но если бы они отправились в Англию — разве там какая-нибудь бомбежка не могла бы стать смертельной? Если бы остались во Франции, то точно так же оказались бы под властью рейха! А в Соединенных Штатах Якоб был бы сейчас в американской армии и тоже в опасности: может быть, в Европе, может, в Тихом океане. Порвалась связь времен, везде, и нужно было как-то делать свою работу…».
Но течение компромисса не остается плавным - постепенно оно превращается в водоворот, а с нарастанием войны этот процесс приобретает уже совершенно фантасмагорический характер.
Пабст снимает кино. Он уверен, что великое. Он не замечает, как сходит с ума. Впрочем, не больше, чем все, кто в это вовлечены, просто и остальные этого тоже за собой не замечают. Процесс экзистенциального безумия, перерастающего в безумие метафизическое, показан Даниэлем Кельманом на всех уровнях, в том числе на уровне стилистическом и пунктуационном. Этого безумия уже не может остановить ничто - даже окончание войны.
У Пабста, впрочем, после войны все складывается хорошо. Он снова снимает кино. По сценарию жены. Собственно, она это кино и снимает, и она же поддерживает в окружающих иллюзию, будто ее муж не перешагнул еще грань безумия. Что до наказания за сотрудничество с фашистами… Даже откровенные преступники его основном избежали, что же говорить о великом режиссере, снимавшем великое кино? О его наказании речь и вовсе не идет. Да и вообще - например, маленькая седая женщина, помощница режиссера, вызывает у всех «некоторое смущение с тех пор, как выяснилось, что она всю войну прятала в подвале еврейскую семью. Не то чтобы ей это ставили в вину. Просто непонятно было, как относиться к тому, что она оказалась совсем не такой, как о ней думали раньше». А к Пабсту понятно, как относиться - все именно так и относятся: он свой, он страдал вместе со всеми на родине, а не наслаждался свободной жизнью на чужбине.
Скоро выйдет из тюрьмы хаусмайстер Йержабек. «— На самом деле правил не Гитлер. И не Геббельс, и не Геринг, как их там всех. На самом деле это всегда был он. — И ничего ему за это не будет».
Искать в романе Даниэля Кельмана повод для оптимизма не стоит. Справедливость не торжествует в нем так же, как в жизни вообще. И лишь единственный факт заставляет в этом усомниться…
Пабст не снял великое кино. Потому что он не был великим режиссером. Убийственность этого факта понимает каждый настоящий художник. И это единственная отдушина, которую Даниэль Кельман оставляет читателю.
Пабст не был великим режиссером и не снял великое кино.