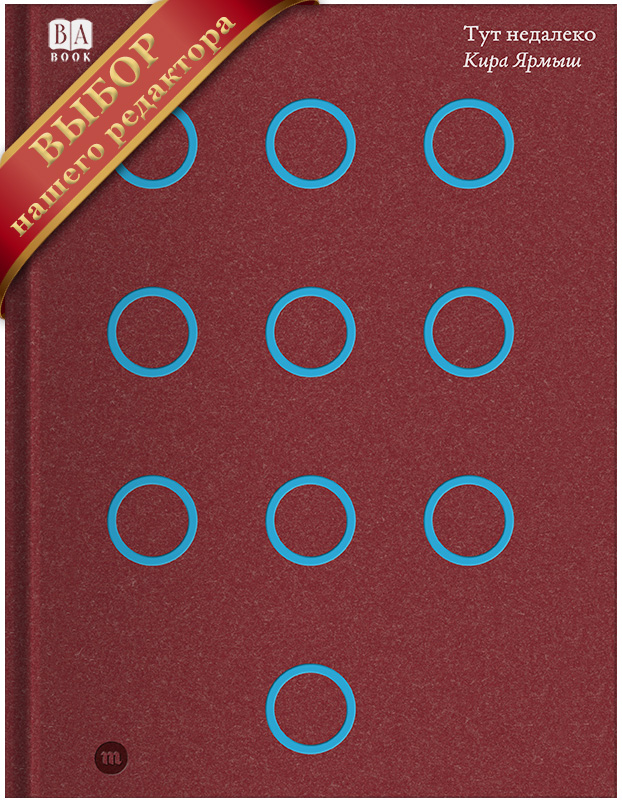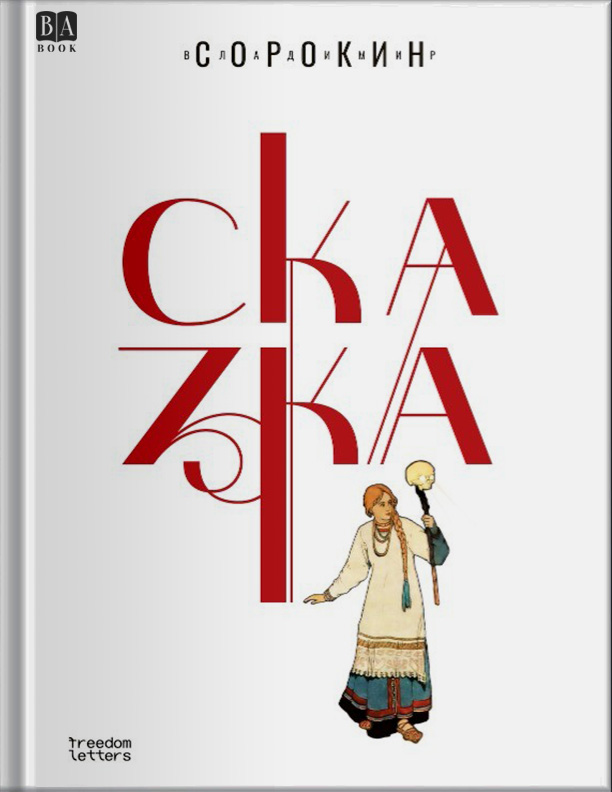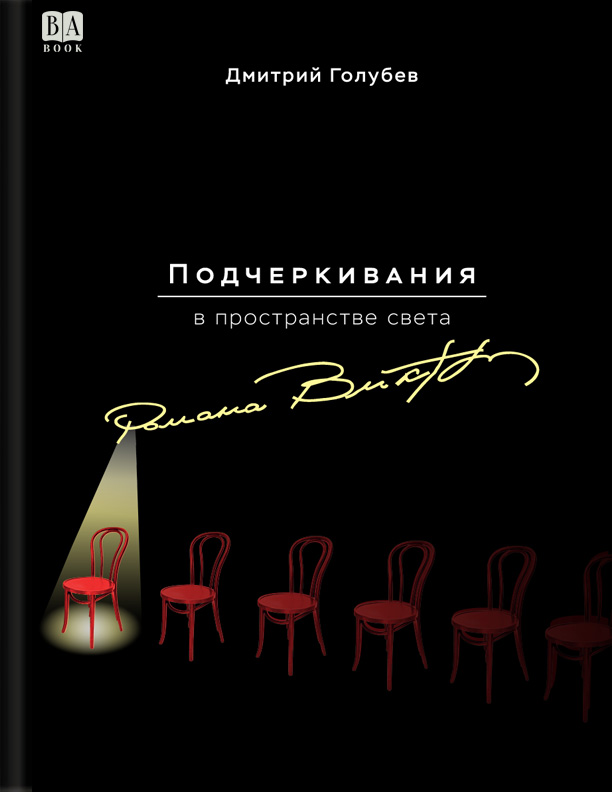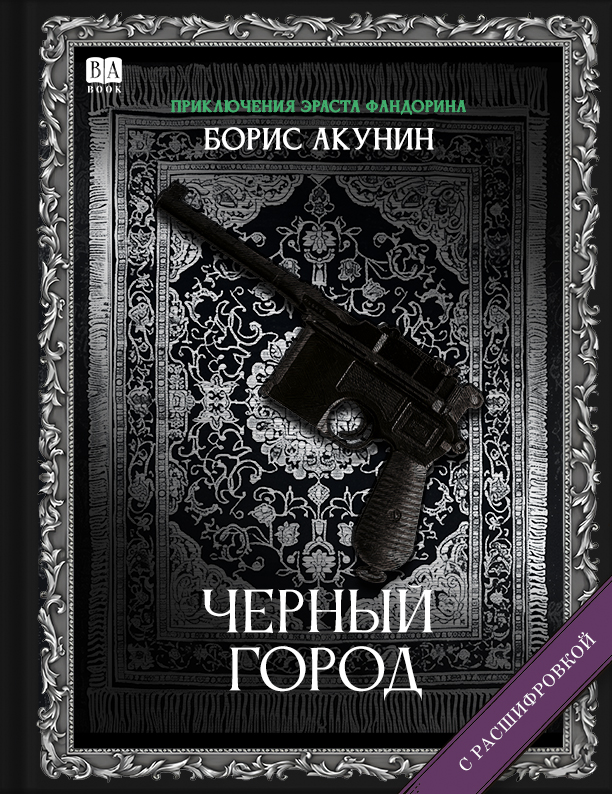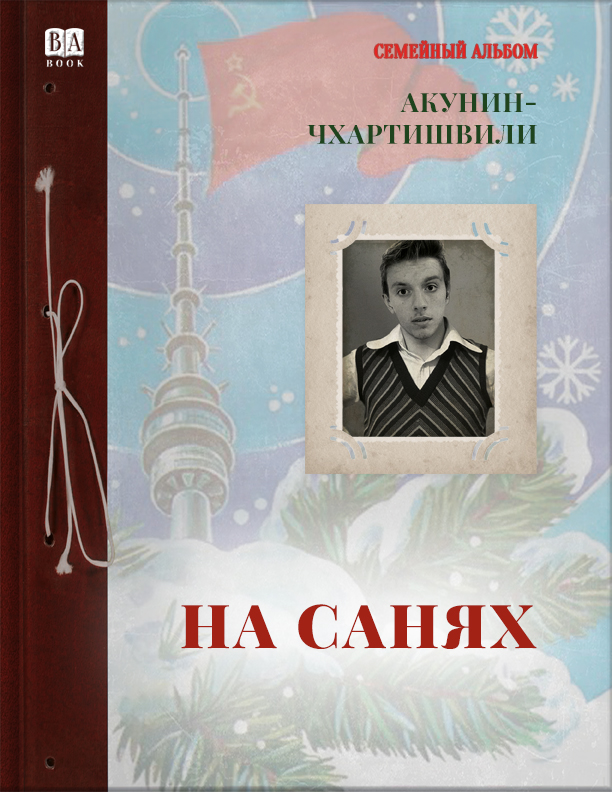МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ТОМА ШЛЕССЕР
«ЧТО ОНО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ?»
Роман французского искусствоведа Тома Шлессера «Глаза Моны» (М.: Издательство АСТ : CORPUS. 2025. Перевод с французского Наталии Мавлевич) принадлежит к числу самых трогательных книг современной литературы. Сюжет его предельно прост: десятилетняя парижанка Мона однажды полностью теряет зрение. Вскоре зрение, вообще-то у Моны очень острое, возвращается. Почему она несколько часов была слепа, врачи определить не могут. Предсказать, не повторится ли это снова, тоже невозможно. Вернется ли зрение, если случится новый приступ, тем более неопределимо.
Пока врачи обследуют и наблюдают девочку, ее дед Анри, в прошлом фоторепортер, решает, что лучшей терапией для нее (а офтальмолог направляет Мону к психологу) будет способность понимать искусство. И не только для того, чтобы это успокоило ее нервы, но главным образом по причине, которую Анри, мужественный человек, осознает очень ясно: в сознании внучки, которая, как практически все подростки ее возраста, живет в окружении исключительно китча, должны запечатлеться произведения настоящего искусства, чтобы, если она ослепнет, ей было что вспоминать о видимом мире и эти воспоминания могли бы поддержать ее дух.
Девочке он этого, конечно, не говорит - просто решает, что вместо визитов к психотерапевту, которых она боится, «раз в неделю, по строгому расписанию, он будет брать Мону за руку и показывать ей в музее одну, всего одну вещь; сначала ничего не говорить и ждать, чтобы гармония красок и линий впиталась в ее сознание, а потом, когда придет время перейти от восхищения к осмыслению, объяснить ей словами, как художники говорят с нами о жизни, как показывают ее».
И вот с того момента, когда дедушка и внучка начинают свои еженедельные походы, становится совершенно очевидным то, что составляет обаяние этой книги и ее привлекательность: чистота взгляда на мир. Она присуща деду, она присуща внучке - оба видят мир через этот магически ясный кристалл. Тома Шлессер не обходится без того, без чего не обходится, кажется, любая современная книга о ребенке - без обсуждения взрослых проблем, с которыми этот ребенок сталкивается. У Моны это в первую очередь отцовский алкоголизм и сложности отношений между родителями, связанные и с этой болезнью, и с другими обстоятельствами жизни. Но в свете той ясности, которая определяет смысл и стиль книги, эти проблемы не то чтобы решаются с вымышленной легкостью, но не становятся тяжелым мороком, способным довести до депрессии.
Примерно об этом говорит внучке дедушка Анри, когда предметом их очередного рассмотрения становится Мона Лиза Джоконда. Он считает правильным «поговорить с ней о философе Алене и о том, что он писал в “Мыслях о счастье”. Ален утверждал, что те, кто старается быть счастливым, заслуживают медали, гражданской медали, потому что их решимость показывать себя довольными и жизнерадостными, хотя иной раз для этого требуется немалое усилие воли, распространяется на других».
Трудно сказать, старается ли сам Анри быть счастливым - его жизнь в старости, после смерти любимой жены, совершившей эвтаназию, когда ее настигла разрушительная болезнь, не слишком этому способствует. Но ясность мысли занимает в его жизни то место, которое отведено счастью.
Кстати, Джоконда - не совсем типичный выбор произведения, которое Анри считает нужным показать внучке для исполнения своей задачи. Среди картин и скульптур, которые он выбирает, почти все такие, которые не назовешь мейнстримными. Да, он «ценил искусство, в котором есть, так сказать, огонь, и часто говорил: “Искусство — это или пожар, или пустое место”. Ему нравились те картины и скульптуры, которые могли бы всем своим видом или отдельной деталью обострить, разжечь желание жить». И вместе с тем у Ботичелли, Рафаэля, Рембрандта, Тициана он показывает Моне то, что помогает не ознакомиться с очевидным набором культурного человека, а понять очень тонкие вещи о жизни. И с той же целью обращает ее внимание на художников, которых, пожалуй, мало кто стал бы показывать десятилетней девочке во время ее первых походов в Лувр. Но выбор его всегда имеет твердую мотивацию.
Вот Никола Пуссен (глава о нем называется «Храни твердость духа»):
«Кисть в дрожащей руке оставалась тверда. Такой вот парадокс. Рука могла дрожать, но Пуссен ни перед чем не дрогнул. Его картины — образец твердости духа».
Вот Микеланджело («Отрешись от материального»):
«Смотри, безупречное, мускулистое тело этого цветущего юноши выражает и блаженную негу, и мучительную боль. Статуя называется “Умирающий раб”, и эта вопиющая двусмысленность воплощает некую поразительную идею. <…> А идея такая: надо отрешиться от всего материального, вещественного, осязаемого. Это трепетное тело переходит от земных скитаний в запредельные, идеальные сферы, подобно тому как становится из раба свободным человеком, из мраморной глыбы — прекрасной скульптурой. Все эти три перехода, каждый из которых — избавление от тяжелой, грубой, порабощающей земной материи, — происходят одновременно, в ужасном и высоком порыве слитых воедино радости и страдания. Происходит освобождение».
Вот Франциско Гойя («Везде притаились чудовища»):
«Гойя показывает нам, что мир полон чудищ. Они притаились всюду: среди инквизиторов, военных, ведьм, они выглядывают из старых предрассудков и новых веяний, они наполняют смех и песни, праздники под луной и средь бела дня. Гойя показывает, что люди всегда, что бы ни произошло, творят что‑то чудовищное. Это страшно, но Гойя нас учит, как это принять и сохранять трезвый ум среди мрака. Мало того, он учит, как, усвоив этот трагический урок, плодить своих собственных чудовищ и укрощать их, чтобы не бояться».
Постепенно Мона учится видеть в искусстве парадоксальность. И дед твердой рукой ведет ее по пути этого понимания. Картина Каспара Давида Фридриха позволяет ему поговорить с ней о природе романтизма.
«Сегодня часто бездумно называют “романтичным” все трогательное и прелестное.
— Как семейный ужин с папой и мамой при свечах?
— Например… Не в обиду будь сказано твоим родителям, которых я нежно люблю, амбиции художников-романтиков шли намного дальше семейного ужина при свечах. Они отстаивали право личности распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению, включая право на самые дикие, безумные поступки и смертоносные пристрастия, без оглядки на догматы религии, законы государства и нормы общества. Они также проповедовали возврат к силам природы, которая может пугать, как эти хищные птицы, облепившие чахлое дерево, а может служить убежищем».
Филипп де Шампань, Антуан Ватто, Томас Гейнсборо, Каналетто, Жак-Луи Давид, Уильям Тернер… Вскоре дедушка с внучкой перемещаются в музей Орсе - Гюстав Курбе, Анри Фантен-Латур, Джулия Маргарет Камерон, Эдуар Мане, Клод Моне, Винсент Ван Гог, Камилла Клодель, Густав Климт… Не надо забывать: общение с каждым из произведений, которое показывает дед, начинается с того, что внучка просто смотрит на это произведение. Столько, сколько будет длиться ее интерес, до всяких объяснений - чтобы получить абсолютно личное, ничем не предвосхищенное впечатление.
Результат поразительный: не только знание живописи и скульптуры, не только развитие вкуса, но понимание действительности, в том числе семейной, родительской, происходит у Моны невероятным темпом. Трудности жизни становятся ей понятны, и это понимание не придавливает ее, не лишает сил. Даже то, что однажды она снова ощущает, как на время исчезает зрение, не приводит ее в такой ужас, в какой могло бы привести. Могучая поддержка, которую дает искусство, новое самоощущение в реальном мире - вот что с ней происходит.
И когда Анри приводит Мону в зал музея Орсе с грандиозной инсталляцией Кристиана Болтански, разговор об этом произведении происходит между ними уже действительно на равных.
«Двадцать одинаковых витрин, точнее говоря, стендов высотой в полтора метра, шириной в восемьдесят семь сантиметров и толщиной в двенадцать равномерно размещены на трех стенах зала. По семь штук на боковых стенах и шесть — на задней. Все стенды очень внушительные, в темном обрамлении, освещенные неоновыми лампами, которые укреплены в верхней части каждого, все затянуты тончайшей, похожей на сито, предохранительной сеткой и висящие почти вплотную друг к другу. Каждый набит самыми разными документами: в основном бумажными листками, рукописными и машинописными, побольше и поменьше, очень и не очень мятыми, и фотографиями, цветными и черно-белыми. Всё вперемешку: письма, конверты, бланки, поляроидные снимки, детские портреты и пейзажи, какие‑то записки и так далее. И все относится ко второй половине ХХ века. Стенды напоминают лабиринты из рисунков, фотографий и надписей на стенах полицейских участков (такие любят показывать в детективных фильмах), в которых задокументировано преступление, следствие, загадочное дело.
— Это какой‑то шепот, — шепотом же сказала Мона. — Вернее, это вопль, но он вопится шепотом.
— Объясни‑ка!
— Ну, понимаешь, многие произведения имеют ясный смысл, в таком случае они как будто говорящие. Когда Сезанн пишет гору, его картина говорит: “Я гора”. А другие как будто немые. Вот, например, абстрактные картины — они молчат. Но тут… тут совсем другое… <…>
— А тут — шепот. Шепчет само произведение. Чтó оно хочет сказать? Что хочет сказать! Слышишь разницу, Мона? Оно хочет сказать. Но не говорит, не выговаривает, потому что это трудно: захотеть сказать, суметь сказать и сказать то, что хочешь сказать. Вот почему эта инсталляция, как ты замечательно выразилась, шепчет. Она говорит, что хочет что‑то сказать, но и сама, наверно, точно не знает что.
— Это потрясающе, Диди! И знаешь почему? Потому что, по‑моему, в чем‑то все произведения искусства такие. Ты чувствуешь, что в них заключено много символов, много разных историй…
— …но не можешь разгадать и малой доли.
— Да!
— Но главное не в том, чтобы разгадать все загадки, а в том, чтобы почувствовать, что в этой вещи есть много скрытых значений и они прячутся, ускользают. А произведение вечно остается открытым».
Наблюдать на протяжении всей большой книги за стремительным и ясным развитием девочки Моны - это увлекает не меньше, чем рассказы ее деда о художниках, один перечень которых вообще-то должен подвигнуть любую бабушку к тому, чтобы срочно прочитать книгу Тома Шлессера своим внукам, да и самой ее прочитать тоже.