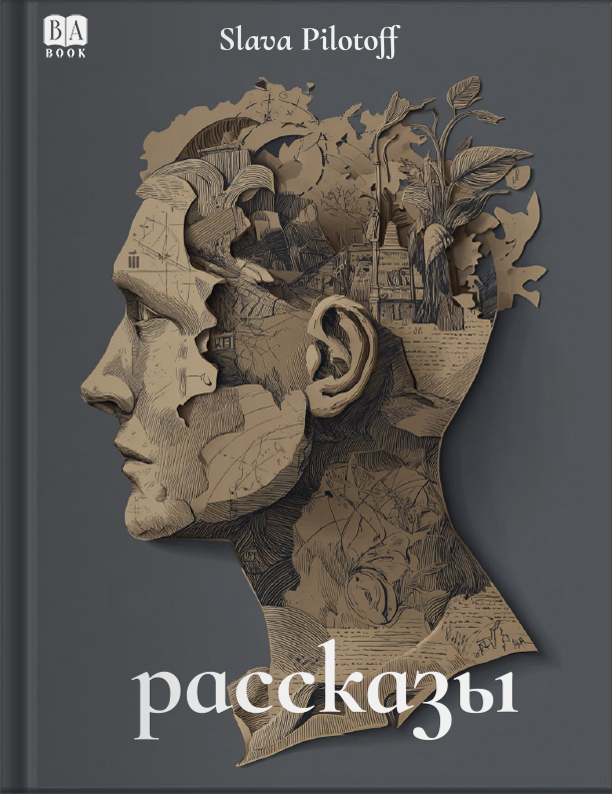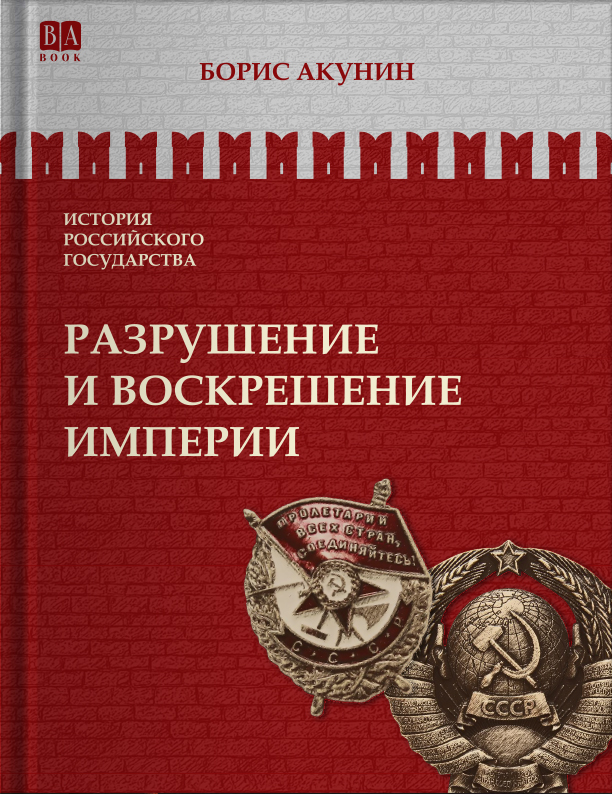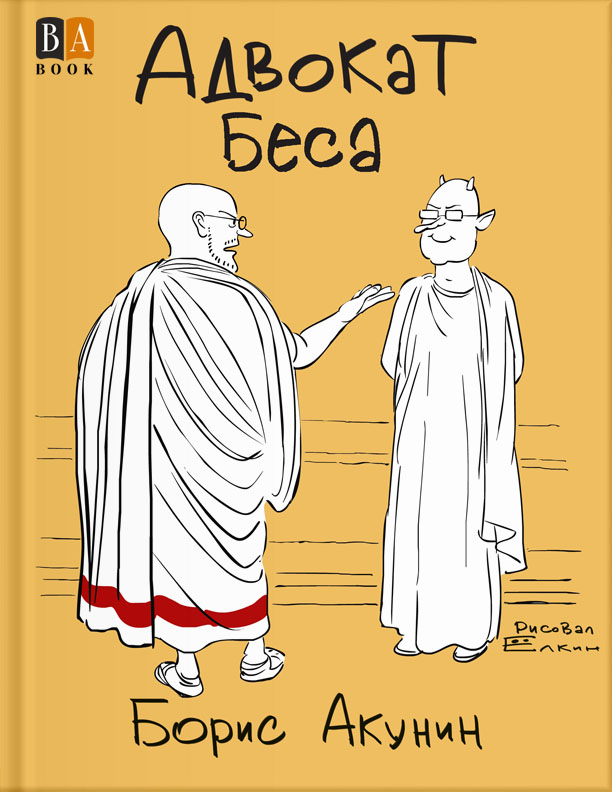Слава Пилотов. Рассказы
Мы продолжаем публиковать рассказы Славы Пилотова в рубрике Книга с продолжением. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью — вам повезло больше, потому что вы можете купить книгу Славы Пилотова в нашем Магазине.
Читайте, покупайте, ждем ваши комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук
БАБУШКА
— Алеша!
Через толстенные, мхом законопаченные бревна бабушкин голос доносится глухо, едва различимее монотонного бурчания телевизора.
— Алеша, не студи Избу!
Тепло в деревне дорого — бабушка учит меня задраивать дверь на веранду плотно, как на подводной лодке. Я шлепаю голыми пятками мимо деревянных лавок с цинковыми ведрами. Черная озерная вода в ведрах задернута подтопленной льдинкой.
У стены масляной цепью блестит красный Орленок со спущенными колесами. Я вспоминаю, как пролетал на нем, задрав ноги, по длинным мутным лужам в продавленной тракторами колее, как выдергивало из-под меня седло, когда в илистой каше вязло заднее колесо… К концу августа от скрежета цепи деревенские коровы отпрыгивали в канаву. Я стоя продавливал педали, куски глины под крыльями шуршали о колеса. Бабушка просила отмыть велосипед, времени до конца летних каникул не хватало катастрофически…
Я вздрагиваю от резкого скрипа.
В приоткрытую дверь протискивается голова. Седые бабушкины волосы зачесаны гребенкой назад, над верхней губой тонкой полоской темнеют крошечные усики.
— Алеша, без носочков на улицу не ходи, опять горло застудишь!
Веранда зимой считалась улицей, вместе с туалетом и пристройкой для кур и овец.
Прежде чем я открываю рот, голова исчезает.
Большое, состоящее из секционных квадратиков, окно веранды изнутри покрыто белой крошкой инея. В углу провисла пыльная прошлогодняя паутинка. Я наклоняюсь над холщовым мешком под окном.
— Пол ледяной, ты умереть хочешь?! — не унимается бабушка из-за двери. — Отец мне голову оторвет.
Мой отец, ее сын, работал инженером и никому голову оторвать не мог.
Как фокусник в цирке, выдыхаю белый пар и запускаю руку в мешок. Мелкую картошку, которую бабушка презрительно называла «горохом», я на ощупь пропускаю между пальцев. Сморщенная картофелина с темными точками – глазкАми тоже отправляется обратно в мешок.
Я возвращаюсь в натопленную избу с грудой картошки.
— Молочка согреть? — ворчит бабушка, смывая землю с картофелин короткими струйками рукомойника.
— Согрей, — уступаю я, растирая белые скрюченные пальцы. — Давай почищу.
Бабушка оттаивает. Я беру нож и миску.
— Дай, я сама, — говорит бабушка через две секунды, хмурясь на толстую полоску картофельной шелухи в мусорном ведре.
Я уступаю нож.
* * *
Зимой в деревне две валюты — дрова и водка.
За первую неделю зимних каникул бабушкина поленица у сарая усохла вдвое. Я просыпался после кота и кур, от сладкого масляного запаха блинов. В кухне постреливали еловые головешки, по радио увеличивались надои. Нагретые на кирпичах шерстяные носочки ждали на стуле у кровати.
После завтрака я вызывался сходить на озеро за водой.
— Прорубь замерзла, — объясняла бабушка. — Я сама схожу, лед надо порубить топором.
Я садился за телевизор.
— Алеша, обедать!
Из кухни слышался стук ухвата и скрежет вытаскиваемой из печки кастрюли со щами.
Мы садились полубоком за большую тумбочку, она же стол. На подоконнике стояла крынка с соседским молоком, бабушка оловянной ложкой снимала с него желтоватый верхний слой.
— Давай сметанки положу.
Я кивал.
Бабушка присаживалась и тут же вскакивала.
— Ох, что ж ты ничего не скажешь?! Старуху резать пора, памяти не стало!
Она бросалась к хлебнице и спотыкалась по дороге о кота.
— Пошел на двор мышей ловить, бездельник!
Полосатый Васька рисовал восьмерки у ее ног и заглядывал в глаза.
— Мясо ему подавай! Ешь, что дают!
На бабушкин крик кот щурился и прижимал уши. Он косился под лавку, где в банке из-под шпрот было налито молоко с кусками недельной булки.
Если бы кот мог говорить, они бы с бабушкой ссорились.
После обеда я звал бабушку играть в подкидного дурака.
— Крести козыри! — возмущался я, тыкая в пиковую шестерку, которой она пыталась побить бубновый валет.
— Ты сам в том заходе пикой бил, — ровным голосом отвечала бабушка, забирая шестерку на место.
У меня перехватывало дыхание.
— Какой пикой?! — я не мог найти слов. — Какой пикой?!
Мы оба ненавидели проигрывать и подолгу дулись друг на друга. Мама говорила, что я упрямством пошел в отца, а отец — в бабушку.
Потом мы садились на разных концах дивана, я смотрел «Клуб кинопутешественников», в бабушкиных руках мелькали спицы и виднелись контуры носка. Внезапно клубок падал на пол. Бабушка бежала к окну.
— Гляди! — ликовала она, позабыв, что не разговаривает со мной. — ВоронИха в магАзин вырядилась!
МагАзин в деревне говорили с ударением на втором слоге.
— Ишь, форсит как невеста, небось, ухажеры заждалИсь! — фыркала бабушка, придерживая рукой ситцевую занавеску. — Иди, иди, зубы им свои в стакане покажи…
Дни зимой в деревне написаны под копирку. Кто не сплетничал, тот умирал от скуки…
Мне казалось, что часы на стене топчутся на месте. Мы считали оставшиеся дни зимних каникул.
— Когда теперь приедешь, Алеша? — вздыхала она, отрывая листочек маленького настенного календаря. — До лета не увижу тебя.
— Раньше приеду, — ни секунды не раздумывая врал я, чтобы сделать бабушке приятно. — На весенние.
— Ох, не дождусь я, — бабушка вытирала глаза уголком накинутой на плечи шали. — Пироги на завтра ставить?
В ранних январских сумерках я садился на детскую табуретку у маленькой печки-лежанки. Ладони горели от жара, пылающие угольки проваливались сквозь чугунную решетку вниз. Я покидывал тонкие лучины, кирпичные стены под белым слоем извести дышали теплом. Тянуло дымком, дымоход был забит сажей, мы боялись угореть.
— Что же это такое? Матушки мои, за что?
Бабушка в кухне разговаривала с иконой.
Я смотрел на часы. В соседней комнате нудел телевизор.
* * *
Два лета назад я бабушку перерос, и в тот же год впервые услышал от отца слово «рак». Бабушка стала много охать и хвататься за живот, прихрамывала, присаживалась отдохнуть прямо в поле, опираясь на ручку тяжелой, остро наточенной косы, как на костыль.
По врачам «за большие тыщи» ходить отказывалась.
О переезде в город и слышать не хотела.
Пироги ее, однако, оставались волшебными. Приготовление пирогов летними воскресеньями было религиозным обрядом. Тесто ставилось накануне, с вечера. В шесть утра сигналами точного времени оживало радио, а бабушка уже вставала на приступок, чтобы снять пятилитровую кастрюлю с теплой печи. Живое тесто лезло из-под крышки через край.
Весь кухонный стол занимал фанерный поднос, бабушка с длинной деревянной скалкой налегала сверху, раскатывая плотную массу в один огромный блин. Мукой был заляпан пол и бабушкин фартук. Мы чихали от висящей в солнечном воздухе белой пыли и вытирали глаза рукавом. Пятнами на лицах мы напоминали индейцев.
Перевернутым граненым стаканом бабушка вырезала из теста кругляшок, в середину которого горкой складывала две чайные ложки перетертой с сахаром черники. Тесто с краев собиралось так, чтобы начинка оказалась внутри. Бабушка окунала петушиное перо в стакан с подсолнечным маслом и обмазывала круглый пирожок, начиная с шишки наверху. Полчаса, пока пироги стояли в печи, мы ходили кругами, втягивали воздух, глотали слюни. Когда бабушка чугунным ухватом с буквой Г на конце подтягивала к себе черный противень, я заглядывал ей через плечо. Пирожки румянились ровными рядами, как солдаты. Из вершин, как из вулкана, вытекали черные приторные струйки.
Пироги полагалось хвалить, и было за что.
Съев от жадности четыре, я сидел с прямой спиной, сдерживая икоту, а бабушка корила меня, что я не попробовал «пустой с сахаром» и «с яичком».
— Ты не заболел, Алеша? — она трогала мой лоб и переживала, что я «осунулся».
Бабушка боялась, что в деревне подумают, что она меня не кормит.
* * *
На майские праздники в следующем году мы с мамой и отцом поехали в деревню сажать картошку. В машине стояла тишина, погода тоже была ни к черту.
Картофельное поле уходило в горизонт. Рваные тучи пролетали над нами как на перемотке. Зарядами летела морось.
Я узнал, что лопата с куском промокшей глины весит тонну.
«Куда столько картошки, мы ее за год не съедим, — злился отец, налегая всем весом на черенок. — Никогда не может угомониться».
Он отправил бабушку домой готовить обед. Она смирилась и ушла, переживая за лопату.
Мои носки в просторных резиновых сапогах сморщились и сползли на пальцы. Мы с мамой подтаскивали ведра и закладывали лунки рассадой.
«Половину посадим, и с утра — домой», — клялся отец, яростно сплевывая в борозду.
Обедать мы не пошли и сделали ровно половину, как он и обещал.
Вечером все, кроме меня, выпили по пятьдесят грамм. Ели борщ. Мама чихала и прикладывала к синему носу платок. От чеснока катились слезы.
Вдоль пышащей жаром печки была натянута веревка, с которой свисали наши трусы-штаны-рубашки.
— Во что же мне вас завтра одеть? — охала бабушка, поглубже проталкивая смятую газету в папин сапог.
Мы с мамой посмотрели на отца. Он подошел к веревке и сжал синий фланелевый рукав моей рубашки. Несколько капель воды упало в одну из лужиц на светло-коричневом деревянном полу.
— Если дождя не будет, я вас утром подниму, — сказал он.
Бабушка побежала раскладывать ватные одеяла.
Утром меня разбудило солнце.
Мы уезжали через день.
Перед отъездом отец взял колун и в щепки покрошил у сарая дрова. Счастливая бабушка взад вперед бегала в подпол за трехлитровыми банками с солеными огурцами и маринованными помидорами. Каждую она оборачивала газетой, чтоб не разбились. У нас получилось пятьдесят сумок, или около того. На предложение захватить картошечки отец заскрипел зубами.
Он потом неделю не мог разогнуть спину.
А через месяц наступило то, последнее, лето.
* * *
Заднее колесо заносит со свистом. Я спрыгиваю на ходу, бросая велик в траве. Бабушка сидит под яблоней на деревянном ящике, сжимая в руке косу.
— Ба, я купаться на озеро!
— Вода холодная, ногу сведет.
Я закатываю глаза.
— Жара, все купаются, ба.
— В жопе жара. Один на озеро не ходи.
Я подхватываю с земли хрустящую зеленую антоновку.
— Я с Ванькой.
— Не связывайся с деревенскими.
Бабушка считала, что деревенские научат меня «жрать водку».
— Утонешь, что я отцу скажу?
Огрызок яблока летит через соседский забор.
— Клубничку сорви, Алешенька. Последняя в этом году.
Она с усилием отрывается от ящика, опираясь на косу. Я сдергиваю с бельевой веревки полотенце.
— Долго в озере не сиди, хозяйство застудишь! — слышу я вслед.
— Ну ба!
Я оглядывался на бегу, бабушка стояла сгорбленная, в своем вечном выцветшем халате. Позади изломанный ствол антоновки, покрытый растрескавшейся корой, похожей на пересохшее русло реки. Нижний толстый сук откололся вдоль ствола и был подвязан к яблоне полосой старой простыни. Снизу, как костыль, бабушка подставила доску.
* * *
Окно веранды было покрыто инеем. В углу висела прошлогодняя паутинка. Ноги мои заледенели, но сейчас бабушка не подсовывала мне тапки.
Первый раз я видел ее в торжественном бархатном платье. Платок тоже был черный, и завязан узлом под подбородком. Крошечные усики темнели над упрямой верхней губой. Пальцы рук переплетены на животе. У нее единственной на летней веранде не шел изо рта пар.
Отец поцеловал ее в лоб и выдохнул на меня:
— Попрощайся.
Я не мог сделать шаг, глотал горькие слюни, меня тошнило от разлитого в воздухе аромата дешевого одеколона.
За спиной зашептали, что земля на кладбище окаменела, землекопы уговорили три бутылки пшеничной и лыка не вяжут. Отец зарычал, как собака, и убежал на кухню, расталкивая обступивших гроб.
Ближе бабушки у меня никого не было, но я так и не сдвинулся с места, не наклонился к ледяному лбу. Деревенские тетки подвывали, а я зажал руками лицо и не понимал, где мои слезы.
Мысли метались — то мне казалось, что обитый черным сатином деревянный ящик упадет со сдвинутых лавок, то я гадал, придется ли нести его с мужиками на плече.
Я не скорбел как положено. Сердце защемило так, что я не мог дышать. Я почувствовал, что оно треснуло вдоль, как высохшая яблоня в бабушкином огороде.
Хоронил я не бабушку, а отколовшееся от жизни детство.