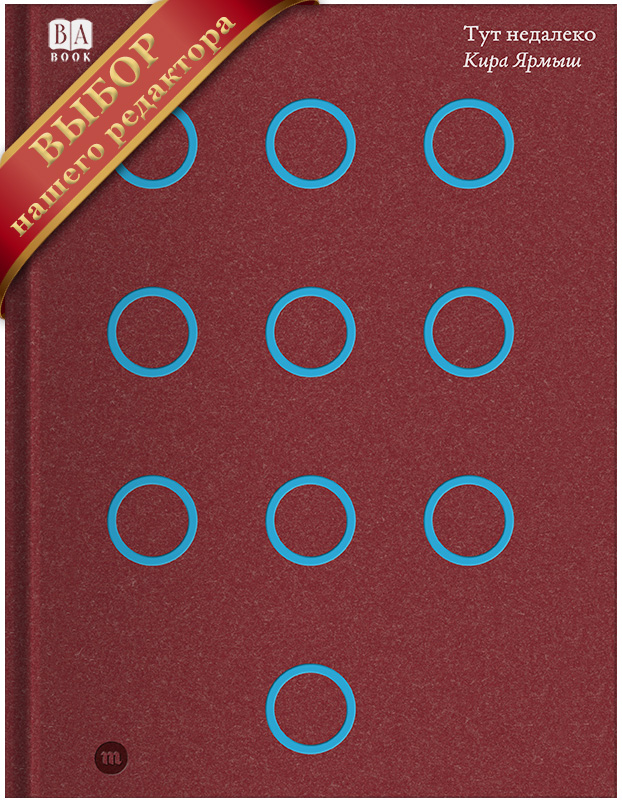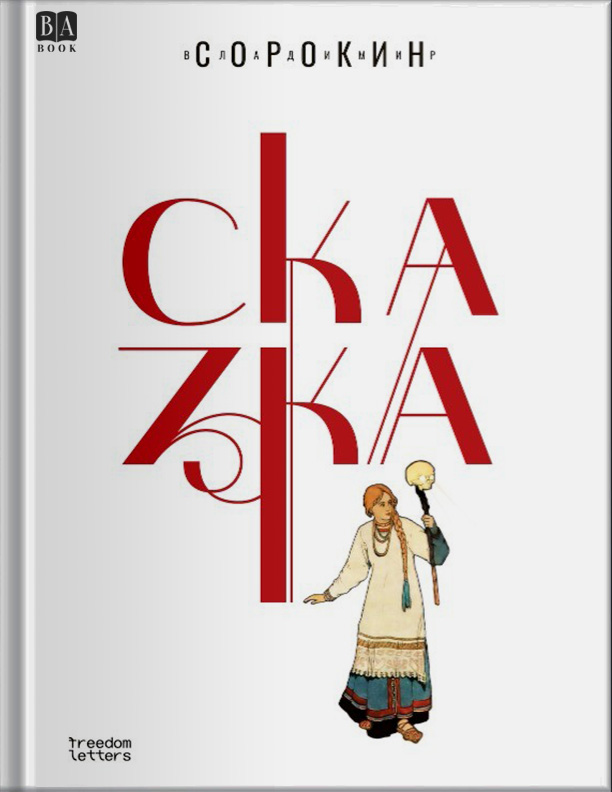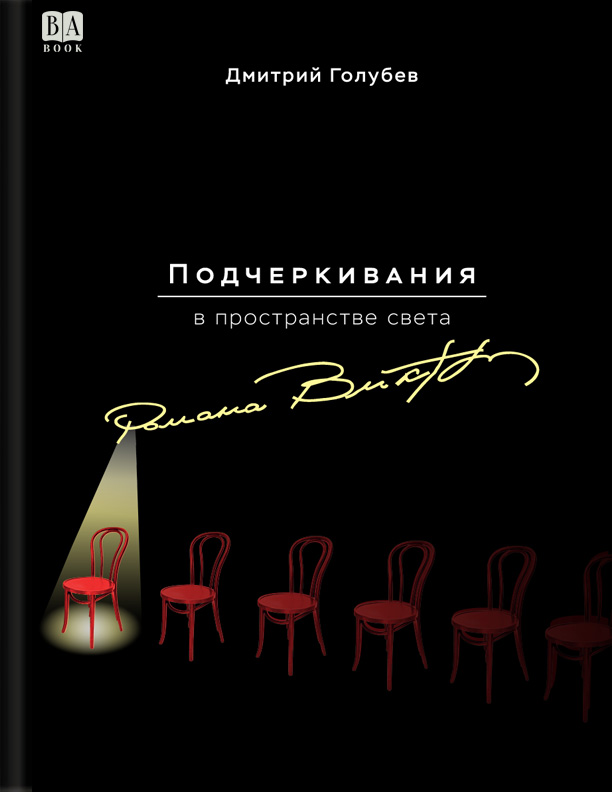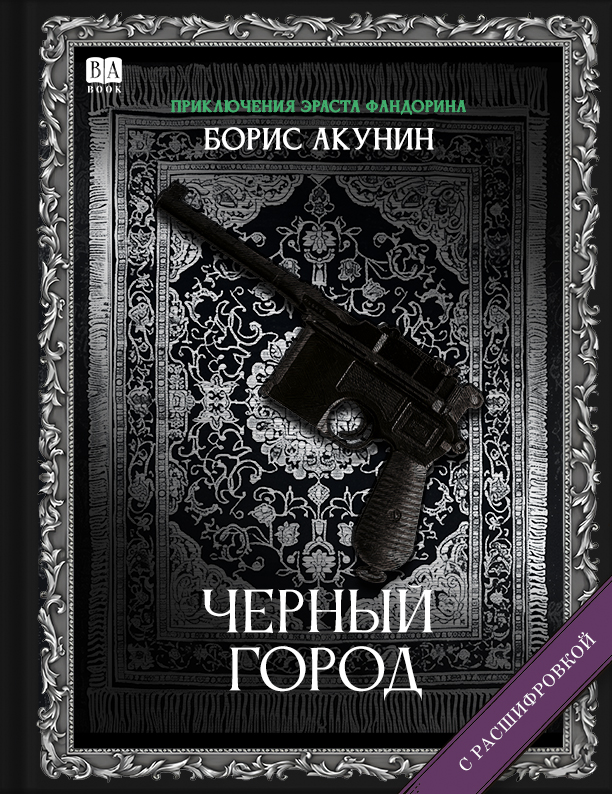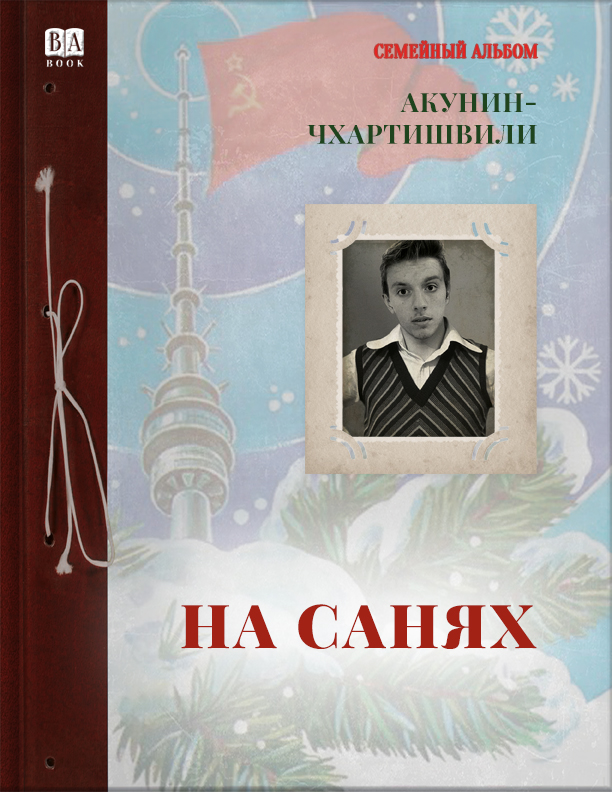МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ЕЛЕНА ЯКОВИЧ
ПРОСВЕТЛЕННАЯ ОПТИКА
Книга Елены Якович «Двое. Рассказ жены Шостаковича» (М.: Издательство АСТ : CORPUS) продолжает традицию, которая возникла в современной русской литературе сравнительно недавно - когда книга пишется автором по тем же автором снятому документальному фильму. Среди многочисленных фильмов Елены Якович есть те, которые состоят из монологов Иосифа Бродского, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Марины Густавовны Шторх - дочери философа Густава Шпета, и есть книги по ним. И вот - фильм и книга, в которых говорит Ирина Антоновна Шостакович. Как и в предыдущих случаях, она включает в себя и то, что в фильм не вошло.
«В эту книгу вошел ее монолог целиком — рассказ о ее детстве и юности до встречи с Шостаковичем и 13 годах вместе с Шостаковичем. В первую часть я добавила свои комментарии: что тем временем происходило с ним, провела параллели между их жизнями. Поразительно, но тот же каток, который прошелся в конце 1930‑х по уже знаменитому композитору, едва не раздавил маленькую девочку. Несмотря на разницу в возрасте, многое в их биографиях совпало. Оба ленинградцы. И трагический русский ХХ век задел обоих — репрессии, аресты, блокада, война. В рассказе Ирины Антоновны высвечивается эпоха, вернее, несколько эпох. От 1930‑х до 1970‑х. И, конечно, шестидесятые. Оттепель, так и не ставшая весной, время их встречи и романа», - пишет Елена Якович в предисловии.
Параллели между путями двоих, которым много лет спустя предстояло соединить свои жизни, оказываются иногда буквальными. Так, семилетняя Ира Супинская, вывезенная из Ленинграда по Дороге жизни, жила в куйбышевской эвакуации в том же доме, в котором Шостаковичу дали квартиру после того как 27 декабря 1941 года он закончил Седьмую симфонию…
Звучат в книге и голоса выдающихся современников Шостаковича, потому что «он оставил след в жизни каждого, кто видел его». Скульптор Эрнст Неизвестный говорит о том, что прямо относится к концепции фильма и книги Елены Якович: «Когда мы вспоминаем о людях такого калибра, как Шостакович, как Нуриев, как Слава Ростропович, мы не можем говорить только о профессиональных достоинствах, потому что первичен человек, а профессиональные достоинства приобретают качество его человеческого масштаба».
Вероятно, понимание человеческого масштаба Шостаковича во всех, в том числе житейских его проявлениях - это одна из причин того, почему тихий голос Ирины Антоновны оказывается так значителен, что не теряется среди многих голосов великих современников. Как и сама она, в момент их знакомства работавшая редактором музыкального издательства, не потерялась среди множества людей, окружавших Шостаковича. И когда среди воспоминаний о трагических событиях, которые ей пришлось пережить в детстве - были репрессированы ее родители, сама она чудом выжила во время блокады Ленинграда, - вдруг звучат ее трогательно простые слова: «Его как‑то все опасались. С обожанием к нему относились, но считали, что с ним трудно, с ним невозможно говорить. А мы уже сильно подружились, и поэтому мне было легче, чем с кем‑нибудь, с ним разговаривать. По-моему, Шостакович был красивый», - в их точности и правде невозможно сомневаться.
Ясность этого монолога 90-летней женщины вызывает абсолютное доверие к каждому ее слову. Это не только точность памяти, но именно ясность - представлений о добре и зле, о важном и второстепенном. В том, что она запомнила, второстепенного, впрочем, нет.
Вот она вспоминает о том, как Шостакович отказался подписывать открытое письмо композиторов и музыковедов с осуждением антисоветской деятельности Сахарова и, чтобы избавиться от бесконечных начальственных звонков на дачу и в квартиру, они ушли вдвоем из дому и вернулись лишь поздно вечером, когда завтрашний номер «Правды» ушел в печать без его подписи. Точнее, это Шостакович был уверен в отсутствии своей подписи - утром же, получив газету с опубликованным открытым письмом, он обнаружил ее в числе других… «А мне говорил потом Шнитке, - рассказывает Ирина Антоновна, - что с ним тоже была такая история, он отказался подписывать не это, но другое письмо, а его подпись поставили. И я не знал, что делать, сказал Альфред».
Во всех деталях запомнила она и то, как в 1962 году была написана Тринадцатая симфония, в основу которой легла поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», и какой была судьба этой симфонии в насквозь пронизанной антисемитизмом стране, отчетливо помнившей «борьбу с безродными космополитами».
«Под нами в доме композиторов жил Александр Ведерников, карьера которого в Москве только начиналась, он непрерывно пел Свиридова и был такой поклонник русской музыки. Он сказал, что “Бабий Яр” петь по идейным соображениям не будет, что это противоречит его взглядам, что ли, - рассказывает Ирина Антоновна. - В марте 1963 года Дмитрий Дмитриевич сказал, что мы поедем в Минск; поступило приглашение от Вити Катаева, был такой дирижер, он присутствовал на московской премьере, она его ошеломила, а тут ему предложили возглавить Государственный симфонический оркестр Белоруссии, и он решил немедленно сыграть Тринадцатую симфонию. Был уже негласный запрет на ее исполнение, хотя официально его никто не объявлял, но в библиотеке Союза композиторов ему отказались выдать партитуру, сказали, что запрещено. Оркестровые партии он раздобыл у библиотекаря оркестра Московской филармонии, они вместе вынесли из служебного входа консерватории три пачки нот и погрузили в такси. Партитуру привез с собой в Минск уже Дмитрий Дмитриевич. Ну а потом, зимой 1966‑го, был Новосибирск. Нас позвал дирижер Арнольд Кац, он тоже был в зале Московской консерватории на премьере и с тех пор мечтал о Тринадцатой симфонии. Он исполнил ее в Новосибирском театре оперы и балета. Это был третий и последний дирижер, который решился сыграть “Бабий Яр” перед полным его запретом на долгие годы — фронтовик, военный дирижер, дошедший до Берлина, да и Новосибирск, город ученых, был посвободнее и посмелее…».
Понятно, что эти воспоминания - не о второстепенном. Но точно так же не второстепенно и то, что Ирина Антоновна запомнила, например, о музыке к фильму «Гамлет»:
«Григорий Козинцев был замечателен тем, что единственный среди всех режиссеров имел список эпизодов — что ему нужно, что он хочет и какой длительности. Мы были на фестивале в Горьком, возвращались после завтрака в номер, Дмитрий Дмитриевич брал этот список и говорил: “Прочти, что там следующее?” Я говорила: “Первое сумасшествие Офелии”. Он садился и моментально писал первое сумасшествие Офелии. “Что там дальше?” Я читала: “Второе сумасшествие Офелии”. Он писал второе сумасшествие Офелии. Человек ждал эти ноты, увозил в Ленинград, и их там начинали исполнять».
Не было мелочей ни в чем, происходившем с Шостаковичем и вокруг него. И, ничего не декларируя, Ирина Антоновна рассказывает об их общей жизни с пониманием этого.
Ее собственный образ предстает в книге «Двое» таким цельным, какого трудно было ожидать даже от самого длинного монолога. Но и любой, самый короткий фрагмент этого монолога сохраняет ту же цельность ее личности. Она - как просветленная оптика, наведенная на Шостаковича. И в фильме, и в книге Елены Якович это ее качество предстает во всей силе.
О том, какой трагедией стала его смерть, Ирина Антоновна не говорит. Но можно понять, что ее спасло от отчаяния: то, что она поняла, что должна разобрать его ноты и письма, а главное, издать все его сочинения и сделать по ним оркестровые материалы, чтобы их можно было играть. Для этого она создала издательство «Дмитрий Шостакович», которое существует и сейчас.
«Это была счастливая находка».
Ирине Антоновне не просто рассказывать о том, как Шостакович, уже тяжело больной, писал «Сюиты на стихи Микеланджело» и какой ужас вызвало у нее посвящение ей музыки к сонету «Бессмертие»: «Здесь рок послал безвременный мне сон, / Но я не мертв, хоть и опущен в землю: / Я жив в тебе, чьим сетованьям внемлю…».
Смерть его действительно была безвременной. И он, вечно живой в своей гениальной музыке, действительно жив и в тихом голосе его жены, в точности ее рассказа об их жизни.